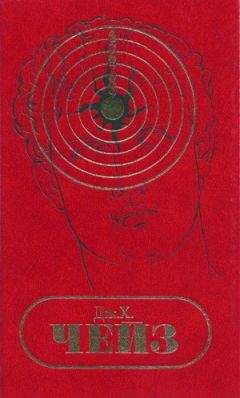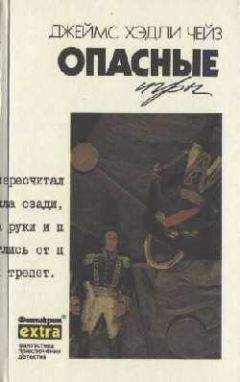цепляет, и нет больше коленка.
— Потому что… я больше всего на свете не хотела… чтобы ты узнал и разочаровался во мне.
Говорю правду, ибо физических сил на ложь нет.
— Это конкретная?
— Да, — шепотом отзываюсь.
— Ты покрываешь его? — очень ровным и очень злым тоном интересуется Вася.
Во все глаза в него смотрю.
— К-кого?
— Мразь эту. Загродского.
— Ч-что?
И от гнева у меня в глазах белым полотном комната покрывается. Я вскакиваю и бросаюсь к чему-то. К вешалке. Или к тумбе.
Я разворчиваюсь к нему, едва не раздирая себе лицо пальцами.
Он вскакивает, но я уворачиваюсь, а затем хватаю его мышечную плоть у плеча.
— Покрываю, — ору я так, что горло саднит мгновенно, — его?! Как! Как ты смеешь! Чем!
Кулак хочет за талию меня перенести куда-то, но эта песенка спета.
Все. Сейчас все будет кончено. Безысходность встречает меня плотной тишиной. Я слышу тишину. А потом я слышу звук, что ее пожирает. Звук что есть всхлип. Мой всхлип.
Я больше никогда не смогу вернуть это обратно. Он увидит, кто я есть. И, конечно, все будет кончено. Я не выживу в его презрении к себе. Это противоречит моему выживанию.
Останавливаю мышцы лица руками, чтобы хоть какую-то отсрочку получить. Слезы уже пролились, но это ведь только начало.
Я отшагиваю, и отшагиваю, и отшагиваю от него, а он прет. Комната заканчивается.
Отворачиваюсь к неровно прокрашенной стене, прячусь. Как ребенок.
— Он больше не тронет тебя. Вообще. Алиса, это первый и последний раз. Больше такого вообще в жизни не будет. Никогда. Я обещаю.
Прямо в спину мне говорит. Близко нависает, на волосы сверху дышит.
Я касаюсь одной ладонью стены.
— Где т-ты был, Вася? Ты… видел его?
Обнимает меня за талию, всей длиной руки притягивая на себя. Хорошо, что лица моего рассмотреть не сможет. Я срываюсь на плач, толчками и месивом всхлипов выдавливаюсь вся наружу.
— Сломал ему все, что поломалось. Если не найдут там на дороге, то так и сдохнет. А ты, давай, выкинь из головы. Я знаю, кто он. Не переживай. Живой власти у него нет и не будет уже. Он на востоке болтался годами, здесь — это значит сбитый летчик.
— У т-тебя будут неприятности!
Голова кружится, как от годового обезвоживания. Я не переживу, если Вася пострадает из-за этого. Это форменный ад, это все моя вина.
Жизнь мне нужно было жить по-другому. Еще в двадцать лет перевернуть все, а не зализывать раны, и сначала ждать, что случится чудо.
— У меня каждый день неприятности. Единственная неприятность, что меня парит — это то, что ты наделала. Ты меня с землей ж сравняла. Все вокруг знают, почему у тебя… почему на лице у тебя это, а Вася Кулак как тупая шавка.
Выворачиваюсь раньше, чем думаю. Сквозь сопли и поток слезы, взрываюсь еще большей истерикой:
— Никто! Никто не знал! Что ты несешь! Да я… Ни за что в жизни! Я никому не говорила сейчас!
Голову мою боком к своему лицу прислоняет, обхватывая ладонью не глядя. Мелкую дрожь пытается успокоить, а зря. Это не закончится. Точнее, я закончу это сама. Все это. Нас. От этого тоска такая беспросветная берет, что реву еще больше.
— Твою мать, Алиса, — выдыхает он, — скажи, что сделать, ты не смей так плакать. Почему, тебе больно, может, где?
Шерлок Холмс, хочу крикнуть сквозь рыдания. Больно где. Везде!
Хочу человеком без сердца жить. Смотрю на руки свои сквозь пелену, а они чужие. Диссоциация.
— Н-не могу остановиться! Отпусти меня, ну отпускай.
Он только крепче в себя сжимает, совсем свободного места не осталось.
— Не смей плакать, я прошу тебя, ну, — губами греет каждый клаптик лица и сдавленно произносит, — будь умницей, маленькая моя, и больше не плакать.
Если бы это было так просто. Отворачиваюсь, временная передышка накатывает: пустоту чувствую и усталость.
— Вот так, — шепчет он, — блядь, это же… не делай так. Я себя бояться начинаю, и это после сороковника. Почему Егору рассказала, а другим всем нет?
Смотрю в стену, и один раз провожу по его грудине рукой. Не глядя. Хочу почувствовать, возможно, в последний раз.
— Потому что я не говорила Егору, — отвечаю режущим, но механизированным голосом. — Он сам догадался. Меня замуж выдавали за Загродского в институте, и Егор знал его, как и все в этих кругах. Как и все догадывались, что он меня избивает. Мы даже не встречались. Он бил… меня за это. А теперь отпусти меня.
Я отталкиваюсь, но он мне в лицо свистом воздух забивает.
— Стоять, — сипло заряжает, и я голову вскидываю, будто это поможет вырваться, — стоять, Алиса, ты… Если есть еще хуевые новости, то по пунктам мне сейчас выложи. Сейчас же. Стоять!
— Вася, — плачу я, — отпусти меня.
Когда он разжимает руки, я уже набираюсь сил, чтобы до выхода добрести. Только в коридоре своего этажа понимаю, что он за мной пошел.
Мотаю головой. Не смотрю на него.
— Иди отдыхать. Я дальше… сама.
Взяв бутылку воды и легкую шаль, потом дошагиваю до участка Сергея Степановича. В избе горят светом окна. Это хорошо, ко сну с Ваней готовятся.
За сеткой первого участка есть поросли, что ведут к дальнему саду без построек. Роскошные фруктовые деревья у Сергея Степановича, с Ваней мы постоянно тут тусовались. Правда, пока через сетку пролезешь, год пройдет.
Выбираю приют из дров-порубленок поближе к границе с полем. Здесь меня никто не услышит.
Плачу часа три, наверно. Это нормально. Накопилось, да и физическую боль тяжело переношу. Делаю вид, что ничего, а на самом деле… коплю и коплю, потому что не хочу в злость вымещать. Злюкой быть не могу. Лучше плакать. К сожалению, многие подобного выбора не разделяют.
Это не мир терпил. Это мир тех, кто дает по морде и тех, кто может сдачу дать.
Не знаю, что завтра делать буду. Не хочу, чтобы отношения с Васей медленно умирали. Отношения! И того нет.
Это не страшно, что я Васю полюбила. Я почти всех люблю. Страшно, что в Кулака я влюбилась, бесповоротно и крышесносно. Такое в первый раз приключилось.
Что-то мне подсказывает, что и в последний.
Судя по шуршанию, под порубленками гадюки загнездились.
Эх, укусят меня если — ну